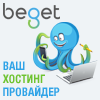Классические функции культуры, такие, как ценностная организация эмпирической реальности, сохранение преемственности человеческого опыта, выведены в поэтике акмеизма на первый план, обусловливая развитие общих для всех трех великих акмеистов мотивно-тематических комплексов (прежде всего, это «адамистический» круг мотивов, связанный с идеей наречения имен и актуализацией понимания природы слова как сакральной; это также «архитектурные» образы и мотивы акмеистической поэзии, в которых воплощается идея культурной деятельности как борьбы с пустотой и преодоления хаоса и т. д.).
Развитое и усиленное в акмеизме, такое художественное преломление идеи культуры в основных чертах сохраняет близость к символизму. Более специфично выглядит акмеистическая стратегия интимизации, «одомашнивания» контекста мировой культуры.
Идеологическим обоснованием такой стратегии являются, прежде всего, мандельштамовские мысли о роли культуры в момент исторического слома времен – его понимание культурной деятельности как снаряжения в будущее египетской «ладьи мертвых», в которой «все для жизни припасено» [Мандельштам О. Соч.: В 2-х т. – М.: Худ. лит., 1990., т.2., с. 187], его видение возможности «европеизировать и гуманизировать» новую, послереволюционную эпоху только с помощью восстановления культурной преемственности между веком XIX-м и ХХ-м.
Идея культуры прочно спаяна у Мандельштама с идеей «домашности», о которой уже велась речь выше. Особенно явственно эта связь проступает в его стихах и в «Разговоре о Данте» – начиная с «одомашненной» крымской Эллады и заканчивая апологией «исполняющего понимания» в «Разговоре о Данте» и воплощением этой концепции исполняющего понимания в стихах, апеллирующих к «Божественной комедии» («Вы помните, как бегуны…», «Я скажу это начерно, шопотом…», «Заблудился я в небе – что делать?»).
По-своему стратегия интимизации культурного прстранства реализована у Ахматовой, для которой характерно соединение культурной рефлексии с пространством интимного переживания.
Ярким примером такого соединения культурного и интимного пространств в единое органическое целое является, в частности, стихотворение «Царскосельская статуя». Представляя собой по внешним жанровым признакам образец экфрасиса, ахматовское стихотворение из поэтического описания известной скульптуры превращается в психологический этюд. «Девушка воспетая» – знаменитая статуя девушки, разбившей кувшин, – становится в ахматовском лирическом шедевре одной из сторон любовного треугольника, сильной и неуязвимой соперницей, вызывающей в героине стихотворения «смутный страх».
Автор: Т.А. Пахарева